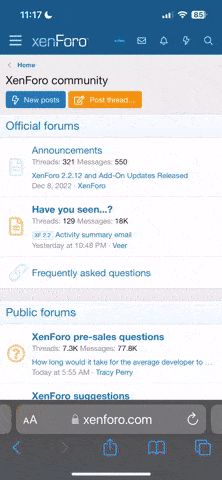- Регистрация
- 5 Ноя 2019
- Сообщения
- 6.133
- Реакции
- 2.413
- Баллы
- 113
Старая, старая сказка

Этой сказке вы, пожалуй, не поверите. Однако
мой дедушка, рассказывая её всегда говорил:
не всё в сказке выдумка, есть в ней и правда.
А то зачем бы стали люди её рассказывать?!
Начиналась же эта сказка так…
мой дедушка, рассказывая её всегда говорил:
не всё в сказке выдумка, есть в ней и правда.
А то зачем бы стали люди её рассказывать?!
Начиналась же эта сказка так…
Ванька, уткнувшись лбом в живот Марьюшке, нарочито громко сопел, шмыгал носом и ковырял пальцем босой ноги утоптанную землю двора. Сестра ласково гладила мальчонку по голове и с укором смотрела на родителей, что сидели в первой из трех, тяжело груженных, телег.
− Батюшка, ты же слово дал, что возьмешь его в стольный град. Подрос ведь уже! − добавляя весу сестриным словам, Ванька шмыгнул особенно выразительно и протяжённо, вытянулся в струнку, чтоб казаться выше, и покосился на обоз глазами, полными слёз обиды.
Отец бороду русую почесал, да в замешательстве шапку на затылок сдвинул − дочка укоряла по делу − давать слово давал, а сдержать не сдержал! Мать, нынче особенно бледная, тронула его за рукав и обратилась к детям, вызвав на лице мужа выражения явного облегчения.
− Сынку, доченька… слово слову рознь! Слаба я нынче, совсем слаба, а в дороге глядишь и того ослабею… дай бог чтоб лекарь заморский помог, − матушка перевела дух и поджала синюшные губы. − Невмочь мне будет, Ванюша, за тобой в стольном граде приглядывать. Да и батюшке с хлопцами недосуг: сторговать надо с выгодой, не продешевить…
Суета и хлопоты сборов, волнение за детей и тревога перед дальней доро́гой: всё это навалилось тяжким грузом на хрупкие плечи, измученной болезнью женщины. Силы покинули и она откинулась на большую кучу свежего сена, лежащего в телеге за их спинами.
Но тут и батюшка нашёлся! Строго глядя на чад своих хоть и любимых, но нынче вздумавших строптивиться, он со всей серьёзностью прибавил:
− Да вот детушки и вести ходют недобрые, что ворог лютый нагрянул и рыщут по полям-дорогам язычники поганые — собаки половецкие!
Тут уж Марьюшка смутилась, зардевшись румянцем: «Само́й бы, дуре, догадаться, что к чему, да братца отговорить − слыхала ведь давеча, как говаривал гость заезжий и про паче учёного лекаря заморского, что пожаловал до осиротевшего княжьего двора, и про орды половецкие, аки стаями кружат над землёй родной!»
Взяв брата за подбородок, она заглянула тому в глаза и строго спросила:
− Слыхал?! Вона, уж четвёртый год минул, пятый катит, а кобенишься как дитя малое: хочу да посулили! А каши берёзовой не хочешь? У меня дело не посулами не станет! − развернув от себя лицом всё ещё насупленного мальца, Марьюшка пихнула его в сторону телег, в довершение отвесив лёгкий подзатыльник.
Ванька хоть ростом был невелик, но взобрался на телегу по колесу дюже проворно. Обнял батюшку, расцеловал матушку и, устроившись у неё под боком, проехался до самой околицы. Там отец потянул поводья, осаживая большого рыжего вола, тащившего телегу. Сорванец спрыгнул наземь. Ёкнуло материнское сердце, так что аж в глазах потемнело и видела она теперь только как её дитятко, кровиночка, сыночек единственный, опрометью бежит к дому.
− Марьюшка, ты братца... Братца береги! − прокричала срывающимся голосом мать и тут, словно опомнившись, что негоже бы детей пугать, прибавила с вымученной весёлостью в голосе. − Мы вам гостинцев привезём!
Ванька, услышавший про гостинцы, запрыгал на месте и замахал обеими руками вслед удаляющемуся обозу. А у Марьюшки, которой шёл уже шестнадцатый годок, по спине будто морозом пробрало − один у неё братик, один. Нет уж других: Бог прибрал! Да и новых народится, нет ли... тоже одной Богоматери-заступнице ведомо. А только уж болеет матушка тяжко, с тех пор как на Страстную седмицу дитём мертворождённым раньше времени разрешилась...
Телеги, спустившись под горочку, пропали из виду. Малец, поскакав ещё немного, с разбегу обхватил за ноги сестру, стоя́щую в воротах, окружающего хутор частокола.
Взъерошив на маленькой головёнке непослушные соломенные вихры, Марьюшка горделиво вскинула голову: «А ну и пусть люди болтают, что засиделась она в девках − языки без костей, вот и мелют! Али зависть глаза застит?!» Девушка слыла первой красавицей и с приданым богатым, вот и посылали сватов окрест и ближние, и дальние. Но только не торопилась она под венец. И батюшка к замужеству не принуждал…
Ещё раз погладив брата по голове, она с прищуром улыбнулась и спросила:
− Ванюша, а малины с мёдом отведать желаешь?
− Ух-ты! − с жаром выпалил мальчонка и, зажмурившись в предвкушении, стал трясти головой в знак полнейшего согласия.
− Ну всё, полноте! Давай ворота затворять, − девушка принялась отцеплять от своего подола переполненного счастьем братишку. − Я сейчас лукошко возьму и в лес за малиной, а ты со двора ни ногой. Сиди при Малаше. А ежли попросит, то и пособи!
Марьюшка назидательно помахала у него перед носом указательным пальцем, а Ванька опять насупился: «И со двора ни ногой, и Малаше пособи».
У батюшки было два рядовича − братья погодки − Добрыня, крещённый Агафоном, и Павел Малой. Малаша (смуглянка, резвушка и хохотушка), которую молодой женой привёл старший из братьев, сразу же всем приглянулась лёгким складом и добрым нравом. Ванятка с нею пуще сдружился, и пособить был никогда не прочь… Вот только просила она теперь всё больше люльку с младенцем покачать да погулить, покуда молодуха по хозяйству хлопотала. А хозяйство-то большое, зажиточное.
Марьюшка, прихватив любимое лукошко выстланное мхом и, напоследок ещё раз пригрозив брату пальцем, споро направилась к лесу, где вдоль опушки, на высоком пригорке, широко разросся малинник. Озарённый и согретый золотым солнечным светом, он сладко благоухал.
И это ж тебе не землянику собирать: «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвёртая мерещится» − тут, куда ни глянь, мириады кроваво-красных капелек висят на колких веточках, меж молодых отростков, что словно луки, упруго выгнулись дугой. Хоть и проворны были у девушки пальцы, но не спешило лукошко наполняться. А что? Брат братом, но и самой сладкой малинкой в охотку полакомиться!
Благодатью и тихой негой полнилась природа: только лёгкий ветерок листву перебирает, знай, прохладу навевает, птички-пичужки беспечно поют, да мерно гудят пчёлки-труженицы. Трудились и девичьи руки, а вот голову занять было нечем, вот и лезли туда, гостями непрошеными, мысли дурные да беспокойные.
Вспоминалось Марьюшке, как давеча неожиданно из Путивля приехал батюшкин сродник, ныне старший конюший при дворе княжьем, но в былые времена во первых рядах в дружине ходил. Подарочки для «внучков» привёз: ей ленточек шелковых, а братишке засапожник, из булата кованый, с резной костяной рукоятью. Попенял батюшке, как водится, что девка заневестилась и что скажи тот прежде хоть слово, так нашёл бы ей, Марьюшке, жениха доброго, всем на зависть. Прежде, да не теперь...
И вроде бы всё по обычаю, всё чередом своим, да только засиделись гость с тятенькой до ночи поздней: уж и звёзды на небо высыпали и месяц высоко взошёл, а они всё разговоры ведут. Девка же как мышь на полатях притаилась ‒ только ушки на макушке! ‒ лежи да слушай. И разговоры то всё непростые: про то, как люди под Богом ходят и что по миру круго́м твориться делается. Да дела-то всё недобрые...
Проглядевши, как Святослав с удачей ходил на степняков окаянных, запала и нашему князю дума Дона Великого отведать. «Хочу, — сказал, — копьё преломить у степи половецкой с вами, русичи! Хочу голову свою сложить либо испить шеломом из Дону». Вот и повёл он дружину. Да только не для того, чтоб землю родную защищать от набега степных волков рыскучих, а искать себе славы бранной и богатства воинам. Не один пошёл: с братом Всеволодом, быком могучим.
Да вот вышло, что земная слава знамение небесное князюшке заслонила. Не случилось добыть свет Егорию Святославовичу желанного: как ни кружился сизым орлом под облаками, как ни пустился быстрокрылым со́колом на стадо лебедей, а только сгубил дружину свою могучую. Да и воины Всеволода, что с конца копья были вскормлены и под шлемами взлелеяны полегли во степи прокля́той, на брегах Каялы быстрой. Ну а княже нашего, стрелами битого, мечами рубленого, Кончак во полон взял.
Ох и плакала, ох и причитала на забороле стены крепостной княжна Ефросиния по судьбине мужа своего. Да пустое всё — взыграла в Святославичах кровь пращура Олега, что горькой славой напоил землю родимую — порушил князюшка со брательником уговоры прежние, пробудили кочевьё окаянное для войны. Дон и море оглашая криком, крыльями лебяжьими всплеснула, налетела на землю русскую орда Кончка лютого, Кзака поганого, да пащенка его, Романа Кзича, коий хоть и осенил себя принародно крестом во храме Божьем (по доброй ли воле, али по принуждению), но как нехристем был, так нехристем и остался…
И словно бы в напоминание что уныние грешно и Господу не угодно, руку девушки пронзила острая боль.
«Тьфу, дурёха-неумёха!» — ругнула себя Марьюшка, засовывая в рот уколотые в задумчивости пальцы. — «Её ли это бабье дело про дела княжеские рассуждать? Тесту место у печи! И лукошко вон ещё полупустое! Да и где бы это видано, чтобы степняки решились в здешние края сунуться: до града стольного рукой пода́ть. По границам бывает, тревожат. С гиками да криками налетят аки стая диких гусей... Но далече ж ведь!»
Встрепенувшись, девка окончательно выкинула всё лишнее из головы и с удвоенным проворством принялась наполнять лукошко сладкими и ароматными “рубинами»
Да не тут-то было! Сквозь шелест листьев, щебетание птиц, жужжание, стрёкот и гул насекомых девушке послышалось собственное имя — Ма-а-а-арью-ю-ю-юшка-а-а-а! — кто-то звал её протяжно.
‒ Свят, свят, свят! — пробормотала она, осенив себя крестным знамением. — Неужто леший балует?!
Но нет, повторившись несколько раз, клич доносился только с одной стороны и явно приближался. Недоумевая, кто бы это мог быть деваха стала осторожно пробираться сквозь колючие заросли к краю пригорка, чтобы оглядеть всё окрест. Приблизившись достаточно к обрывистому склону, она увидела как по наезжему тракту, быстро удаляясь от родного хутора, шагает и орёт во всё горло её младший и единственный брат, сорванец эдакий!
Вперившись в мальчонку недобрым взглядом и сдвинув брови, Марьюшка угрожающе пробормотала:
— Ой не видать табе Ванечка сладкой малинки, а вот берёзовой каши я те щас вволю отпущу! — и уже не столь осмотрительно рассекая заросли, сестрица поспешила к едва заметной тропке, что по-змеиному петляя, спускалась от высокой лесной опушки к широкой дороге проезжей.
Проходя через заросли ракитника, девушка на минуту замешкалась, чтобы выломать добрый пруток — подлинней да погибче! А Ванька всё так же беспечно попал и орал. Вдруг голос мальчонки визгливо оборвался на полуслове, тот же миг сменившись, истошно-напуганным: «Ма-а-а-м-а-а-а», а ещё и топот множества копыт, лихое гиканье, улюлюканье да молодецкий посвист.
Но добры вести так не звучат! Сердце девушки оборвалось, а внутри всё похолодело. Отбросив пруток и даже наступив на уроненное лукошко, девушка опрометью бросилась братику на подмогу. Да куда там! Лишь на крошечную секундочку углядела Марьюшка, как бегущего, словно заяц, во все лопатки мальчугана догнал загон степняков прокля́тых, на щитах которых, широко расправив крылья, горделиво красовались гуси да лебеди. Успела ещё увидать как высокий, широкоплечий, да недобрый молодец, на кипчакский манер прокричавший: «Хорошо бежишь, малец!» Всадник подхватил Ванечку на всём скаку и мешком кинул того поперёк своего седла. Вот и всё — когда выбежала она наконец из густого подлеска уже и след простыл — вильнула дорога через вековую дубраву и не видать их уже. Не слыхать даже... В бессилии девушка упала на колени и заплакала горючими слезами — не исполнила родительский наказ — не сумела брата единственного, кровиночку родимую сберечь!
Долго ли коротко ли просидела она в горестном беспамятстве, устремив затуманенный слезами взор, в дальние дали, где раскинулось Дикое Поле — Дешт-и-Кипчак — Степь Великая.
Долго ли коротко ли, но с каждым мгновением ширилась, росла и обретала несгибаемую и силу уверенности, в Марьюшке мысль, что именно ей надлежит и должно пойти вослед за гусями-лебедями, налетевшими с Дикого Поля, и братца своего домой возвернуть. Всё прочее же перестало иметь какое-либо значение!
В первый момент незапертые ворота хутора напугали девушку паче прежнего, но окликнутая Малаша, прибежавшая целёхонькой и невредимой, отчасти всё же упокоили: хорошо, значит, хоть тут беда стороной прошла. Потому не сразу поверила рядовничья жинка рассказу лютому, заподозрив Марьюшку с Ваняткой в замысле очередного проказливого подвоха. Ехидно напутствовала даже: «Ну как же, знамо дело... Поди-поди до степняка окаянного, братца родного вызвали!» Помогла и припасы в котомку складывать, и одёжу мужнину дала, а то ведь негоже девке, как есть, в орду идти…
Действительный смысл происходящего дошёл до неё только тогда, когда хозяйская дочка взяла нож и одним махом под корень отрезала свою косу русую. Малаша, на миг остолбеневшая от ужасной истины, схватила было Марию за рукав, но ту было уже не остановить. Оттолкнув женщину в сторону, выбежала девушка из избы, распахнула ворота и опрометью бросилось прочь от хутора. Упавшая навзничь Мала как смогла споро поднялась и ринулась было догонять беглянку, но крик собственного дитяти остановил её. Она лишь перекрестила вослед и тихо промолвила:
— Бог помощь. Да храни тебя Матерь Божья, заступница, — а помолчав немного, прибавила ещё тише, — Макошь премудра, мати покутна, Судьбы ведница, веретеница, Я, внучка Даждьбожия Маланья, в сей день пред светлым ликом твоим перевясло вяжу, в помощь тебя зову. Пособи ж ты девице Марье брата из беды спасти и самой невредимой уйти...
Долго бежала Марьюшка вдаль от родимого дома. Когда бежать сил уже не было, пошла быстрым шагом, но остановиться себе не позволила. Да, верхо́м бы оно было сподручней, конечко, но чего нет того нет! Увёл батюшка единственного жеребца из свой конюшни на базар продавать, чтоб уж точно хватило монеты звонкой, лекарю заморскому заплатить. Забрать же кобылу с жеребёнком девушка даже не помышляла.
Но молодое тело выносливо, а ведо́мое целью — выносливо вдвойне! Лишь многими часами позже, ближе к закату, Мария позволила себе задуматься об отдыхе, тем более что по придорожной чаще лесной вроде как дымком потянуло: знамо, жильё человеческое где недалече. И точно, миновав очередной поворот, девушка приметила вдалеке между деревьями вьющийся к небесам дым, что поднимался от широкой, распаханной полями прогалины, кое-где засаженной гуртами кустарника и невысоких деревьев — хутор.
Удивило только дочь крестьянскую зачем топить-то в жару летнюю? Разве если мыльню или чтоб хлеба испечь…
Но нет, не для добрых дел чистоты тел человеческих или живота, хлебушком сытого, огонь здесь горел. То куражился красный петух, пущенный лиходеями степными! Сгорело дотла всё созданное в трудах руками добрыми и даже сами руки те лишь прах, пепел, да обугленные кости. Да словно та же кость, избы хребет, возвышается среди пепелища, закопчённая до черноты, большая глинобитная печура. Ей бы криком сейчас кричать, но заслонкой плотно устье закрыто. Не сподобилось хозяйке, видать. А сейчас уж и некому!
Взбаламучивая каждым шагом маленькое облако пепла, Марьюшка медленно подошла к одинокой печке и рывком отбросила заслонку в сторону. Та, оставив на руке сажистый след, грохнула оземь подобно набату! Внутри же печной утробы как ни в чём не бывало стояли пять караваев. Может, зарумянившихся чересчур, но не горелых точно. Девушка, потянувшаяся было к хлебу, заметила на своей ладони жирную чёрную полосу и руку в тот же миг отдёрнула. Заплакала и стала что есть мочи терпеть эту отметину горя и смерти.
Оставаться здесь мочи уж не было: Марьюшка попятилась и задела ногой замершую в неустойчивом равновесии заслонку. Та снова набатом огласила округу низким, гулким, траурным звоном. А пятнадцатилетняя девушка, в сущности ещё ребёнок, бросилась бежать куда глаза глядят.
Эту ночь, как и многие другие последующие, она провела, зарывшись в стог свежего сена. И благо усталость сделала своё доброе дело, подарив бедняжке глубокий сон без сновидений...
Уж минула вторая неделя, как Мария отправилась в путь. Люди, изредка встречавшиеся на её пути, девицы в ней не признавали: стройный, миловидного склада юнец, у которого и борода та ещё не растёт. Только нелюдим уж больно. Поёт хорошо, за что не грех и кусок хлеба, да с чем-нибудь и посущественнее, пода́ть. Но песни всё как-то грустные про судьбинушку недобрую. Про себя ничего не рассказывает, если только спросит про гусей-лебедей половецких: кто да что, да где. А так молчок!
Так да так, но если была у Марьюшки возможность со встречным али с попутным разминуться, то так она и делала. А пропитание надёжнее поискать в лесу да в поле. Или же саду заброшенном...
Девушка, двигаясь вдоль берега какой-то реки — название которой если и слыхала, то не удосужилась запомнить — искала удобное для переправы место. Нет, плавать она умела, и для девицы очень даже неплохо. Но лишний раз скидывать с себя одёжу, обнажая тем самым свою столь тщательно скрываемую суть… Нет, такое было совсем уж неразумно, как и ходить опосля переправы в насквозь промокшей одежде. Тем более что голубые, Богом сотворённые, дороги так ли иначе ли, а всё равно вели её в нужные края — к морю Сурожскому.
Долго ли коротко, но Марьюшке начало казаться, что деревца, там вдалеке, будто бы посажены рядами. Да и луговина, примыкающая к чересчур упорядоченным зарослям, заставляла задуматься о деяниях рук человеческих. Вблизи же оказалось, что всё-таки есть. Или было когда-то.
Сад был большой, старый и запущенный… Нет, многие лета как заброшенный! Вишня, почти уже всё обклёванная птицами, бузина, рябина, множество яблонь давно уже забыли ласковую руку доброго хозяина. Одичали совсем, обуянили, друг с дружкой переплелись, застив путь прохожему, но пуще проезжему.
Девушка тихо гуляла, укрытая прохладной сенью, и вдруг вышла к пустому пространству в центре огромного, но теперь совершенно ничейного сада. Тут её и ждал ответ куда же хозяева-то подевались. На старом, давно омытом дождями и поросшем травами пепелище тоже стояла одинокая печь. Только уже совсем одряхлевшая. Глинобитное тело её не выдержало испытаний погодой — лежанку размыло полностью, в своде же зияли такие огромные дыры, что через них почти целиком горнило просматривалось. Опечье, сгнившее почти что в труху, криво, косо и набекрень, но каким-то чудом продолжало исполнять долг, возложенный на него хозяином. Довершал же картину былого разрушения наполовину разрубленный, но всё ещё щербато улыбающийся череп, примостившийся прямо под шестком.
Мария, тихонько бормоча молитву, осторожно задвинула кости в подпечек. Поискав окрест нашла выломанный ветром, но ещё вполне крепкий яблоневый сук, которым принялась что есть мочи ковырять и долбить подгнившую древесину. Та долго не поддавалась, но наконец там что-то хряснуло, надсадно скрипнуло, и печка с грохотом обвалилась вовнутрь, погребая под собой неприкаянные останки. Девушка отёрла пот со лба, отбросила ненужную уже дубину, только сейчас поморщившись от десятков заноз и кровавых мозолей, изранивших её ладони и, осенивши себя знамением крестным, с улыбкой произнесла:
— Ну вот и могилку справили. Покойся с миром добрый человек, — после чего лёгким шагом и с лёгким сердцем пошла прочь.
Но вскоре путь ей застила яблоня, склонившие свои ветви, густо усеянные плодами, прямо до земли. Листья же, волнуемые ветерком, будто бы не просто шелестели, а тихонько шептали, приглашая нечаянную гостью: «Отведай, девица, яблочка моего наливного». Ух яблочки те были и правда на загляденье хороши. Необыкновенно большие, блестящие, распространяющие тонкий пряный аромат. Но, чего греха таить, всё же малость бледноваты, если не сказать зеленоваты. Марьюшка протянула руку, сорвала и недолго думая надкусила пузатый бок: тьфу, кислятина! Хрусткая, но не особенно-то сочная мякоть вязала и оскомила рот, заставляя скривиться и всем телом передёрнуться.
Отбросив огрызок, девушка попробовала плоды ещё с нескольких других деревьев, но насилу отплевавшись так и ушла ни с чем. Ну разве что пару горсточек поклеванной птицами и перезревшей допьяна вишни…
Ох и далече, далече от дома родимого занесли уже ноги Ванькину сестру старшую. Не одна седьминиушка минула, но пришла Марьюшка во степь широкую, в земли половцев окаянных. И хоть не то что идёт, а пуще хорониться от встречи нечаянной, да от взгляда паче зоркого, но пути своего не теряет и, где он окончится, девка выведать-таки смогла. Там ‒ за рекой Молочной, берега коей топкие и болотистые, аки кисель, зато погоже заросшие разнотравьем буйным. А большего, душе кочевой, для счастия и не надобно. Там и насажали чади-вежи свои гуси да лебеди кипчакские.
Девушка, однажды глубоко увязнув в коварном прибрежном киселе (нахлебавшись его, наглотавшись, отплевавшись насилу, да выбравшись только что с помощью божьей), впредь без крайней надобности к водной глади старалась не приближаться. Но и уйти далеко не могла — где ей во степи вольный ветер сыскать? — ведь именно сюда пригоняло кочевьё окаянное стада свои на водопой.
Высматривала да выглядывала, да молилась девица Господу денно и нощно, чтоб пособил Он ей, горемычной. И Богоматерь — детушек малых первую заступницу — просила без устали, чтоб та знак какой подала. Верила Марьюшка и гнала прочь отчаянье, но дни шли за днями, в недели складываясь, минул уже давно лета рубеж — Перунов день — близился разгар страды осенней. А про братца малого ни слуху ни духу, ни весточки самой малой.
Девушка уже стала допускать мысли, что надобно ей домой возвращаться. Пусть без брата, но и то матушке с батюшкой отрада будет. Зарок себе дала, что вот ещё седмица и повернет она стопы свои к дому родимому — видать, не судьба ей Ванечку сыскать. Но на рассвете третьего дня в её, схороненный в камышах и сплетённый из самой приречной травы, шалашик сунулась большущая, задумчиво жующая, скотская голова. Расшевелив крутыми рогами хлипкие стенки, бык с интересом принюхался к необычной находке, облизнул языком правую ноздрю и вконец обрушив на Марьюшку строение был таков! Она ещё некоторое время продолжала лежать не шелохнувшись, и внимательно прислушиваясь. Окрест звучали не только шаги, вздохи и фырканье животных, но и человеческая речь. Говор половецкий.
Вдруг девушке показалось, послышалось, что пусть слова и незнакомые, но глаголет их голос, который она знает очень хорошо. С самого его рождения! Марьюшка, аки ящерка медянка, выбралась из-под остатков своего ветхого жилища. Также всем телом пресмыкаясь к земле, она поползла на звук, но вскорости остановилась, достигнув широко пространства, растительность на котором была укатана колёсами и истоптана копытами животных. Оставшись и притаившись в высокой траве, Мария несказанно обрадовалась, увидев брата, который сидел, свесив ноги, в одной из ближайших к ней крытых телег. Он что-то бойко тараторил на степняцком наречии, обращаясь к немолодой, но очень стройной и очень привлекательной женщине, щедро обвешанной серебряными украшениями изумительной работы. Та снисходительно улыбалась, но отвечала ласково.
Но тут женщину, наверное, кто-то окликнул, потому что она вдруг резко обернулась, устремив взгляд куда-то в не видимую Марьюшке даль, прокричала несколько слов в ответ и, легко спрыгнув наземь, удалилась в том направлении. Ванька же, шмыгнув носом и скуксив ей вослед кислую мину, продолжил сидеть, беспечно болтая ногами.
Мысли в голове девушки неслись галопом быстрее самых быстрых кипчакских лошадей: одному Богу ведомо надолго ли они тут встали на постой. Одни наезжавшие сюда чади, могли и по несколько дней кряду простоять, другие же, бывало, снимались всего лишь через несколько часов. Мария, до темноты в глазах и до звона в ушах, боялась не успеть. Испугалась пуще прежнего, что вот сызнова увезут её братика неведомо куда, и что не достанет у неё более сил сыскать Ванечку, родимую кровиночку.
Девушка достала из-за пазухи нож, что верой и правдой служил ей все эти месяцы. И припав, вжавшись пуще прежнего во сыру землю, поползла сестрица к брату своему. Стреноженные подле кибитки кони нервно всхрапнули и стали переминаться с ноги на ногу, чуть было, а может, и нарочно едва не наступив на незваную гостью. Ванька приобернулся, но насиженного места не покинул, только кликнул коням что-то успокаивающее. Те затоптать больше не пытались, но фыркать и храпеть не перестали. Поднявшись и прижавшись к деревянному тележному боку и к войлочной стенке, Марья тихонько двинулась к тому месту, где восседал мальчонка, моля Господа Бога, Богоматерь и всех святых, чтоб тому не вздумалось вдруг соскочить и побежать успокаивать взволнованных животных. На счастье, он продолжал сидеть, болтать ногами и рассматривать что-то вдалеке. И вот рукой пода́ть: Марьюшка сграбастала брата, зажав ему рот.
— Тихо, Ванечка. Токмо тихо! — громким шёпотом умоляюще причитала сестрица, пока малец, аки лесной зверек, брыкался в испуге.
Услышав знакомый голос и увидев родное лицо, он тут же обмяк и затих. Только глазёнки радостно заблестели, наполнившись слезами радости. Взгромоздив мальца на закорки, девушка опрометью бросилась бежать к высоким зарослям камыша, но далеко уйти им не удалось. Женщина, давече сидевшая и толковавшая с Ванькой, уже возвращалась, тащив за спиной какой-то большой куль. Заметив происходящее, она подняла истошный крик, на который тут же сдержался и даже прискакал уйма народа.
Марьюшку быстро догнали, повалили на землю, отобрали брата и связали вожжами. Брыкающемуся и вопящему Ванятке, отвесили звонкую затрещину и подволокли к поднявшей тревогу половчанке. Мальчонка, по лицу которого ручьями текли слезы и кровь из разбитого носа, продолжал без перерыва что-то негромко тараторить на степняцком, то и дело, перемежая эту тарабарщину, русскими словами: «Это моя сестра, не троньте!»
С каждой минутой вокруг собиралось всё больше народу: мужчины, юноши, женщины, дети. От группы всадников отделился и лихо спрыгнул со своего коня, молодой степняк. Тот самый что Ванюшу умыкнул. Без труда пробившись через стоя́щую кругом толпу, уверенным пружинистым шагом приблизился он к пичужке, что сдуру угодила в их силок. Обмотав вокруг своей руки концы вожжей, резко дёрнул вверх, заставляя подняться, после чего грубо пошалил свободной лапищей вдоль подола рубахи: внизу живота. Скабрезно ухмыльнувшись, обернулся к товарищам и голосом победителя что-то утвердительно гаркнул, после чего ватага половцев зашумела пуще прежнего, но почти сразу стала затихать, расступаясь и пропуская высокого крепкого мужчину, в дорогих одеждах.
Чело его, явно отмеченное печатью ума и несокрушимой воли, избороздили глубокие морщины и не менее глубокие шрамы. Полóвые, как и у большинства окружающих волосы, уже густо припорошила седина. Прищурив один глаз, он принялся внимательно осматривать пойманную диковинку.
Измученная долгой и многотрудной доро́гой Марьюшка сильно осунулась: щёки впали, а черты лица заметно заострились; кожа огрубела и потемнела от солнечных лучей и въевшейся грязи; по-мальчишески короткие волосы, давно уже не знали мытья и гребня; одежда грязная, местами порванная и истрёпанная. Но всё это лишь оттеняло и подчёркивало природную красоту девушки. Приосанившись и высоко вскинув голову она без страха смотрела местному господину в глаза. Поцовав языком, тот обернулся к Ванятке и, с грубым степняцким выговором, молвил по-русски:
‒ Так это твоя сестра, мальчик?
‒ Да, Бабай-ага, ‒ утвердительно тряся головой, подтвердил тот. ‒ Отпустите! Отпустите её, господин. Христом богом прошу! ‒ разрыдался ребёнок, на что Бабай брезгливо скривился, а половчанка поспешила зажать мальцу рот.
‒ Ну здравствуй, девица, ‒ ласково произнёс вельможный кипчак, но от слов повеяло холодом лютым. ‒ Что же нам с тобой делать, а? Коль ты сама пришла, по воле доброй ?..
Коварно ухмыльнувшись собственным мыслям, Бабай-ага переглянулся с молодчиком, который всё ещё держал связанную Марию, любуясь её точеным профилем. Вожак же своры половецкой, обернувшись к сородичам, что-то прокричал вопрошающе. Толпа в ответ одобрительно загудела, а молодец, притянув девушку к себе вплотную, зычно крикнул, опосля прибавив, уже не так громко, но обращаясь именно к Марьюшке:
‒ Себе возьму. Женой возьму!
У девушки подкосились ноги, но новоиспечённый жених упасть не позволил. Сграбастав её в объятья, он с вожделеньем шумно вдохнул запах молодого девичьего тела и жарко дыша прошептал на ухо:
‒ Ох и славных же деток ты мне народишь! ‒ и невеста почувствовала, как ретивая упругая плоть упёрлась ей в бедро.
Возвратясь туда, где обычно и стояла его вежа, Бабай-ага со свадьбой приказал не мешкать, но всё ж отпустил срок, чтоб успеть оповестить всех ближних и дальних. Ведь молодой жених был в орде не из последних. Слухи же о какую невесту он заполучил, распространились сами собой ‒ трофей уж паче знатный!
Но такую кобылицу ретивую, знамо дело, сторожить надобно. Да и приодеть, нарядить к свадебке было бы не худо! А то из всей одёжи токмо штаны да рубаха мужицкая. Все эти хлопоты возложили на тётку жениха ‒ вдовицу бездетную ‒ коей в утешение племянничек и приволок мальчонку из земель русских. Ну а тётка, чтоб без дела не маялась и как хозяйка себя проявила, засадила Марью рукодельничать: перво-наперво для мужа будущего рубашку сшить, да ещё шесть простегать, прочесать и во косу спрясть ‒ самые то дела для невесты.
Ох и сильно закручинилась девица ‒ плакала слезами горючими ‒ дюже не хотелось ей за нехристя поганого идти. А если и пойти, Ванечку домой, в землю родимую, всё равно не отпустят. Даже и сейчас братца с сестрицей всё больше порознь держат, словечка лишнего молвить не дают. Такой одинокой Марьюшка себя даже во чистом поле не чувствовала: там-то воля вольная, а здесь чужаки всё.
Впрочем, чужаками были не всё. Прислал Бабай в помощь девушке одну из челядниц своих: крохотную, седенькую, чем-то похожую на мышь старушку. Чтоб пособляла да при случае перетолмачевала. Бабуля хоть и на степнячий манер именовалась Шашийёке, но от роду тоже была русской. Её, почитай уж годков тридцать как, половцы из родного дома в полон увели. Оттого-то смотрела старуха на молодицу печальными и полными боли глазами.
Потому же, видать, отринув даже самую мысль о последствиях, она вызвалась Марьюшке с Ванечкой сбежать пособить. Предупредив мальчика, где и когда тому быть надлежит, Шаши, принародно попеняв девушке, дескать отродясь та войлока не валяла, нагрузила ей большущий тюк с шерстью и повела к водоёму, что располагался на окраине вежи постоялой. Даже умудрилась избавиться от не по годам рослого и крепкого недоросля, что был соглядатаем приставлен к невесте, опоив того зельем сонным ‒ паренёк вскорости сладко захрапел. Как раз вовремя: рассекая высокую прибрежную растительность, шёл неосёдланный конь, которого тянул, за наброшенную на шею верёвку, Ванечка. Напоследок, чтоб пуще времени выгадать, женщины ещё и одеждой обменялись. Расцеловал бедных детушек на прощание, старуха звонко хлопнула по лошадиному крупу.
Хоть и нелегко было ехать без седла и без упряжи, но гнала коня Марьюшка безостановочно, отпустив взмыленного жеребца лишь на берегу реки Молочной. Как Брат с сестрицею спешились, так на земле сырой и растянулись в изнеможении. Ну а передохнувши сколько то, чем Бог послал потрапезничали да и помышлять стали как бы до дому родного вернуться.
Но не сподобилось, видать, старой и доброй «мышке» много времени выгадать ‒ даже часу малого не прошло, загудела степь топотом коней половецких, зазвенело поднебесье широкое лаем заливистым, криком, гиканьем да посвистом молодецким. То Бабай-ага, вослед беглецов, послал гусей-лебедей своих ‒ женишка со товарищами ‒ чтоб они, так ли иначе, живыми ли мёртвыми, но возвернули трофей упущенный: в грязь лицом не ударили.
Услыхав звук погони, Марьюшка бросилась было к коню, что мирно пасся неподалёку, но тот прытко сорвался с места и галопом унёсся в степь. Кипчаки же приближались неумолимо. Ванька, не выдержавший навалившейся на них кутерьмы, расплакался навзрыд. Девушка сграбастала брата и почти волоком потащила того к реке, берега которой густо поросли высоченным камышом: аршина в четыре, не меньше.
Тяжело продираясь сквозь заросли, беглецы оставляли за собой заметный след, тогда как звенящая лаем погоня всё приближалась. Ещё несколько десятков шагов и вот Марьюшка уже выше колена стала вязнуть в «кисельный» бережок, Ванечка же и того пуще, но не остановиться, ни назад повернуть было уже нельзя. Слава богу, показалась чуть белёсая водная гладь.
Вынув ножик, что сунула в котомку добрая Шашийёке, девушка срезала тростинку потолще, укоротив её так, чтобы получилась полая трубочка, и сунула брату, бросив коротко:
‒ Чтобы дышать!
Себе сделала точно такую же, мысленно поблагодарив Павку Малого, за то, что он, озорник такой, исхитрялся долгое время подсматривать за купающимися девушками, оставаясь притом незамеченным.
Спустившись и погрузившись по самые уши в воду, проплыв — пробредя наискосок до другого берега, сестрица с братцем осторожно схоронились в самой гуще прибрежного “киселя” под прикрытием камышовых зарослей. Вскорости и преследователи подъехали, с ходу ринувшись топтать травянистую чащу. Но, слава Господу Богу и Богоматери — заступнице, как бы плавно и неторопливо ни катила река Молочная воды свои, успела-таки Речка-Матушка следы бедных детушек прочь унести. Сокрыть от взора лютого гусей-лебедей проклятущих, что долго потом, чуть ли не до ночи самой, по берегам рыскали: высматривали всё, выглядывали, да на своём, на степняцком перекрывались.
Наконец Ванечка, осторожно вытащив изо рта тростиночку, звонко отстукивая зубами, тихонечко молвил:
‒ М-м-марьюш-ш-шка, они д-дум-м-мают чт-то мы п-пот-тонули. Чт-то т-ты с-с-сама ут-топ-п-пилась и м-меня т-тоже.
‒ Цыц! ‒ только и смогла булькнуть сестра в ответ.
Ведь воспользоваться спасительной трубочке само́й девушке так толком не удалось: приходилось всё время Ванечку на плаву поддерживать. Так что и речной водички, и склизкого ила Марьюшка накушалась вдоволь!
Только в самых вечерних сумерках Мария с братцем смогли выплыть из своего укрытия и, по натоптанной преследователями просеке, выбраться наконец на твёрдый берег. И пусть сил уже совсем почти не было, но и останавливаться для отдыха было тоже нельзя, ведь чтоб согреться огня не развести. Так что только вперёд, шагом спорым. Ну или хотя бы как получится.
Ванька честно старался идти. Сколько мог. А после, выбившегося из сил мальчонку, девушка взгромоздила на закорки и, отбросив, холод, боль и неимоверную усталость, с одной лишь единственной мыслью в голове, упрямо потопала туда, где по её ощущениям был небольшой, промытый вешними дождями овражек, и где, укрывшись под навесом из корней, можно было наконец отдохнуть.
Слава Господу, чутьё Марьюшку не обмануло! А ещё, Бог даст, буде у них с братцем в запасе несколько деньков ‒ Ванечка выслыхал, что собаки половецкие станут у реки дожидаться, пока тела «утопленничков» не всплывут...
Много дён уж минуло, как вызволила сестрица брата у кипчаков проклятущих. Долго-долго, шагая по Степи Половецкой, была готова Марьюшка услышать позади топот коней, да залихватский гик. Но слава Богу ‒ минуло. Помогла и Богоматерь-заступница: вывела к местам знакомым, уже прохоженным. К пограничью земель родных. Вон и реченька та безымянная, и старый сад, что осиротил ворог лютый.
Ванечка, за прошедшее время да за поприща пройденные, сильно исхудал и осунулся: пухлые румяные щёчки сошли на нет и рёбрышки всё до единого пересчитать можно! Мальчик совсем не жаловался, но было отчётливо заметно, как сильно он уже измучен доро́гой. Нет, так дальше нельзя ‒ беглецам требовался хороший отдых и возможность подкрепить растраченные силы. И памятный девушке сад в аккурат годился для этого.
Плоды, на раскидистых яблонях, уже совершенно созрели и даже начали осыпаться, наполнив всё окрест, неизъяснимо прекрасным ароматом. Да и на вкус ‒ ну чистый мёд! ‒ нежная мякоть прямо таяла на языке, обволакивая и наполняя истым наслаждением. Каждый день девица щедро угощалась сама, но паче того потчевала братца всевозможными яблочными кушаньями ‒ и крошёными, и толчёными, и печёными, и даже на манер леваша постланными ‒ благо, не вся хозяйская утварь побилась, осталось кое-что во погребке старом.
Почти седмицу отпустила Марьюшка себе с братцем для отдыха, да то добре всё! У Ванюши, гляди-ка, щёчки словно те яблочки зарумянились сызнова. Но пора и честь знать: к дому родимому путь держать. Собрав в достатке плодов в дорогу и поблагодарив яблоньки щедрые за угощение доброе, девушка с мальчиком стали потихоньку пробираться давно не хожеными тропками густо заросшего сада.
Вон, кажется, в кущах и просвет показался. Только чу ‒ не половецкий ли говор им послышался?! И точно, на опушке, где заросли ещё не так переплелись, на постой расположилась ватага степняков. Тех самых, с гусями и лебедями на круглых деревянных щитах. А вот и опозоренный женишок, поправ правой ногой поваленный ствол, сычом глядел куда-то в даль. А дружки, прикорнувшие кто где, лениво, и не в первый раз, видать, уже бачат. Про то не обманули ли их пойманный намедни язык, дескать видавший их девицу с мальчонкой, проходящей по этой самой дороге, шесть дён назад. «Да ну нешто тут обманешь, ежли спрашивать умеючи». Посему же, чтоб лица своего не уронить, с погоней надобно поторапливаться.
У Марьюшки, после Ванькиного растолмачевания, аж внутри всё похолодело: проведали значит, собаки прокля́тые, что не прибрала из речка-матушка. Вот теперича и рыскают. И девушка незамедлительно поволокла брата в самый дикий, запущенный и непроходимый уголок сада.
Ускакавшая вперёд погоня, внушала и те́плила в душе надежду: пускай ищут там, где их ещё нет и будет нескоро. Да и шагали брат с сестрицей уже по родной земле, которая будто бы даже сил прибавляла. И Ванятка, супротив своего обыкновения, сычом промолчавший всю дорогу, заметно оживился, принялся сызнова беспрестанно тараторить и постоянно спрашивать:
‒ Далеко ли? Скоро ли уже?!
‒ Скоро-скоро. Совсем недалече! ‒ со всё более радостной улыбкой отвечала Марьюшка.
Всё чаще они проходили мимо колосящихся золотом или уже сжатых полей, применявшихся лесными чащобами. И как же приятно было ощущать этот почти что хлебный запах и вкус ‒ девушка, бывало, брала понемногу драгоценного зёрна себе и братишке на пропитание. Но даже сваренное в, прихваченном из сада, горшке зерно — это всё равно не совсем хлеб. А изголодавшимся за долгое время беглецам хотелось именно настоящего, такого душистого, мягкого и горячего каравая. И вот, к исходу незнамо какого по счёту дня, ребята вышли к широкой, распаханной, заколосившимися уже полями, прогалине, кое-где засаженной гуртами кустарника и невысоких деревьев.
Здесь мало что изменилось. Печка всё так же одиноко возвышалась над разрушенным хутором. Разве что дожди основательно размыли пепел с гарью и надсадный запах пожарища больше не хватал удушливо за горло, да поднявшая трава, своей кружевной зеленью, прикрыла вперившись в небеса обугленные “пальцы” головешек.
Это зерно было некому уже собирать и потому Марьюшка с Ванечкой без малейшего зазрения совести набрали почти полную котомку. Печка же будто ждала именно этого: девушке без труда удалось её растопить, благо “дров” окрест было более чем в достатке. Без труда же Марье удалось найти жёрнов, совсем почти не тронутый огнем. Да и мука, будто бы, мололась почти сама: каких-то особенных усилий не потребовалось, а верхний камень словно бежал, торопясь сделать очередной круг, отсыпав нечаянной хозяюшке ещё горсточку белого, тонко пахнущего, воздушного чуда. Ну напоследок пара шишечек хмеля, невесть откуда взявшегося в их котомке.
Поистине это было настоящим чудом! Печка одаривала измученных путников домашним теплом. Ноздреватая опара, деловито поднимающаяся из горшка, отгоняла страх, изливая покой и умиротворение на бедных детушек. И даже заслонка, застившая караваи, посаженные в выметенное дочиста горнило, обещала защитить, отринув все напасти, что так давно следуют по пятам за братом и сестрой.
Неописуемо и головокружительно прекрасный запах свежеиспечённого хлеба начал разливаться по округе: у Марьюшки с Ванечкой аж слюнки потекли, а малец принялся причитать да канючить, что караваи уже доставать бы пора. Девушка раз на братца шикнула, другой да только и самой невтерпёж свежеиспечённого хлебушка отведать.
Ох и знатные караваи получилось ‒ мягче перины, слаще пряника медового. Да только всего разок надкусить и успела, как застучали копыта коней степняцких и выскочили из лесу гуси-лебеди: женишок со товарищами. Пуще ветра вперёд понеслись, загиками, заулюлюкали, а сестрице с братиком и схорониться-то негде ‒ только, если что в подпечье лезть.
Но, на счастье девицы красной и дитяти малого, из лесу к хутору разрушенному выехала дружина малая, да хорошо вооружённая. И тотчас же ратники принялись бить половцев прокля́тых, гусей-лебедей залётных. Вначале стрелами жалили вострыми, а как вплотную сошлись так принялись мечами булатными рубить, да перняками литыми крушить. Тут женишка алчного да ретивого смерть и настигла, а дружки его, что жив да цел остался, в тот же миг взад повернули и обратно во степь половецкую полетели на конях своих быстрых.
Ну а Марьюшку с Ванечкой добры молодцы ‒ витязи русские ‒ возвернули безутешным родителям. То-то радость была у матушки с батюшкой, что чад своих непутевый уж и не чаяли увидеть уже.