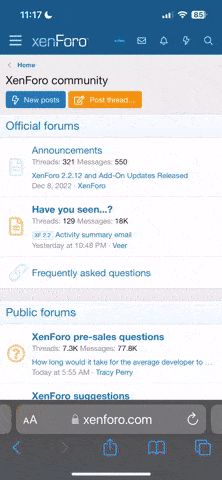С детских лет мы помним один из самых чудесных сказочных образов – Царевну Лебедь из Пушкинской "Сказки о Царе Салтане…". Живет прекрасная Царевна на острове Буяне. Многие исследователи полагают, что за этим названием скрывается Буй-остров, то есть плавучий остров, и соотносят его с древнеславянским Алатырем, который также рассматривался как плавучий остров и почитался как мистический Центр Мира.
В этом контексте Царевна Лебедь выступает как персонаж чрезвычайный. Ведь именно она приводит героя на трон правителя острова, а после и сама становится его женой, то есть, соправительницей. Из пушкинского повествования следует, что она обладала волшебными свойствами, легко выполняла самые трудные задачи и была в родстве с загадочным воинством, выходившим из вод для охраны сказочного заморского государства.
Хочу внести некоторые уточнения...
Пушкинская царевна Лебедь, образ хоть и собирательный, но восходит к вполне конкретному "историческому" персонажу.
А именно
Княжна Лыбедь - сестра основателей города Киева - Кия, Щека и Хорива. Имя княжны Лыбиди упоминается в "Повести временных лет" преподобного Нестора летописца: он называет её сестрой князей-основателей Киева.
Сама фигура княжны вызывает очень много вопросов, пожалуй больше чем все её братья вместе взятые. Среди письменных источников и устных преданий старины о княжне Лыбедь встречаются и полностью противоречащие друг другу. Попробуем разобраться в этом вале противоречивой информации, с тем чтобы вывести, хотя бы для себя, какую-нибудь более-менее вменяемую теорию о Лыбиди, как княжне древнего народа полян.
Некоторые историки, как прошлого, так и современности, имеют сомнения относительно самого факта существования на Руси в IV-V веке княжны по имени Лыбедь. Но мы не будем рассматривать мысли людей сомневающихся - рассмотрим мысли несомненные. Лыбедь, как и её братья, могла войти в историю не под своим собственным именем, а под прозвищем, данным ей соплеменниками. Такое возможно, и отбрасывать это сразу не стоит.
Прежде всего, воспользуемся нетленным творением преподобного Нестора Печерского - "Повесть временных лет". В этом историографическом труде Нестор, среди прочего, сообщает нам историю основания Киева. В связи с этим он упоминает княжну Лыбедь, как сестру братьев-основателей города. По Нестору братья со своей сестрой приплыли к Днепровским кручам на ладье и основали город Киев, названный в честь своего старшего брата . И, если о месте поселения братьев Нестор говорит очень чётко и недвузначно, то место жительства их сестры остаётся неясным.
Некоторые древние легенды повествуют о тереме на Девич-горе (Лысой горе современного Голосеевского района) в Киеве, воздвигнутом братьями княжны Лыбедь для неё. В этом тереме, согласно древним приданиям, она и поселилась. Поскольку других версий о месте жительства княжны нет - то, пока, мы поселим её на Девич-горе, но это может быть и не так.
Стоит отметить, что в старославянских сказках и легендах на этой самой Лысой горе или Девич-горе, а не в дремучем лесу, жила баба Яга. А почему Девич-гора, а не Бабич-гора? Потому, что гору назвали, когда баба Яга была ещё молодая, но уже вредная.
Помимо истории, поведанной нам Нестором, существует ещё великое множество древних и не очень сказаний о княжне Лыбедь. Вообщем-то они все сводятся к тому, что Лыбедь была очень горделивой дамой, отказала всем без исключения женихам и умерла в одиночестве старой девой.
При рассмотрении такого рода легенд, стоит обратить внимание на то обстоятельство, что у полян того времени существовал культ богини-праматери, а собственно в Киеве идол Макоши просуществовал вплоть до прихода христианства. Естественно, что в легендах этого особо не оговаривается не оговаривается, но культ действительно существовал, а значит были и жрецы. А кому, как не княжне, быть верховной жрицей у богини-праматери.
Возможно, княжна Лыбедь и была той самой верховной жрицей этого довольно распространённого в ранней Руси культа. По крайней мере, такой род занятий вполне объясняет её легендарную замкнутость и "горделивость". К ней отправляли сватов и приезжали свататься сами многие инородные правители - всем было отказано. Лыбедь была верна своему служению, а в претендентах на руку и сердце видела лишь врагов своего культа, этим вполне можно пояснить её отношение к сватам и женихам.
Вообще персонаж "царевна Лебедь" довольно распространённый в мифах и преданиях древних славян. Таких повествований существует великое множество, но большинство из них сходятся не только в имени царевны: "Лебедь", но и в описании её характера. В соответствии с этими легендами, Лыбедь - нелюдимое мрачное чудовище, с прекрасным телом и лицом, в конце жизни наплакавшее целую судоходную, некогда, реку, названную её именем. Понятно, что реку наплакать - невозможно, это чистейшей воды вымысел, извините за каламбур; но нелюдимость, как и внешняя красота княжны, фигурируют во всех без исключения мифах и легендах. Собственно, вокруг её красоты и странного поведения и строятся все рассказы о Лыбиди.
Кроме основной версии, изложенной Нестором Летописцем, существует великое множество альтернативных. Мы не будем рассматривать их детально, но приведём самые известные из них. В одной из таких версий говорится о том, что Лыбидь - не сестра, а дочь князя Кия, при этом совершенно ничего не говорится о её месте рождения и матери: кем она была и куда делась?..
Другая версия говорит о том, что княжна была и вовсе не княжна - а жена князя Кия.
Есть версия о том, что Лыбедь - соправительница князя Кия, на правах верховной жрицы, и в этой связи по великим праздникам делила с ним ложе. А может и со всеми братьями вместе...
Есть даже версия, что княжна была охоча до девиц, потому-то и проганяла женихов. Есть такие версии...
Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть версию о полном отсутствии Лыбиди в списках живших на нашей земле. То есть - Лыбедь и не княжна: сестра или дочь; и не наложница, и вообще её никогда не было. А её образ - ни что иное, как сборный образ нескольких реально существовавших лиц или, даже, плод буйной народной фантазии.
Однако, говоря о княжне Лыбедь, нужно отметить что имя ей упоминается, пусть и в переводе, у древнегерманского хрониста Йордана. В его рассказе о жене готского правителя IV столетия Германариха - Сванхильд, что на древнегерманском собственно и означает - Лебедь, можно проследить чёткую параллель со славянскими легендами о Лыбеди, за исключение, собственно, семейного положения и кончины. Славянская Лыбедь - дева, тогда как готская Сванхильд - блудливая жена короля. Так же разнятся и сведения о смерти: славянские легенды и писания, все, как один, говорят о природной смерти: то есть от старости или болезни в довольно зрелом возрасте - а Йордан пишет о казни Сванхильд за неверность мужу, такие у немцев были нравы...
Впрочем именно Пушкинская царевна вобрала в себя образ ещё как минимум одной родовитой дамы обитавшей на брегах Днепра, однако к ней мы вернемся несколько после, а пока давайте обратим внимание на остров, на который высадился Гвидон...
На да дуб обратите особое внимание!
Для южных славян это вообще дерево особое (к примеру, по сказкам и приданиям, в ветвях мистического дуба запрятана смерть Кощеева).
Однако закавыка в том, что Александр Сергеевич, волею своей поэтической, устроил знатную сказочную гибридизацию и присвоил наименование Буян (который вообще-то Рюген на Балтийском море) острову на нижнем Днепре (Хортица или Березань), хотя и честно указал по тексту: "Мимо острова Буяна в царство славного Салтана (т. е. Султана из Османской Турции).
Ну а по сообщениям византийского императора Константина IV Багрянородного на днепровском острове Св. Георгия (Хортица) рос огромный дуб, которому древние русы (проплывая по какой надобности мимо), приносили в жертву домашнюю птицу, кладут мясо и хлеб, оставляют стрелы...
Кроме того в и нашем контексте, Хортица интересна и примечательна еще и тем, что остров (из той же "Повести временных лет") помнит киевских князей Аскольда и Дира, Олега (прибивателя щита к Царьградским воротам), а так же Игоря и
княгиню Ольгу, которая (с невольной подачи Карамзина) послужила для Александра Сергеевича ещё одним пазликом в образе его царевны Лебедь.
А ещё в приплавневой части острова буквально с незапамятных времен был военный форпост русичей-бродников, которые контролировали движение как через Протолчий брод в частности так и по водным артериям Древне Руси вообще. И которых, на основании исторических реалий, со всей ответственностью можно назвать, "тридцатью тремя" наемными богатырями...